Кто хозяин бюджета России: Эпичная битва Силуанова и Набиуллиной. Проиграет каждый из нас
Центробанк придумал новую страшилку – дефицит бюджета. Но именно он сам этот дефицит и раздувает. Высокая ключевая ставка и игра с курсом рубля выкачивают из казны триллионы, оставляя правительство без инструментов и без шансов. Пока Набиуллина рассуждает о "предсказуемости", экономика задыхается, бюджет трещит, а вся страна живёт в логике, где главный враг – собственный регулятор.
Дефицит как страшилка: ЦБ придумал нового врага
Если раньше экономика "перегревалась" и для регулятора это было поводом держать ключевую ставку на уровне удушающей экономики, то сегодня ЦБ нашёл новую страшилку. Всё просто: дефицит бюджета якобы становится проинфляционным фактором, а значит, снижать ставку если и можно, то очень медленно. Но в данной логике есть одна проблема. Именно политика ЦБ сама и раздувает этот самый дефицит.
В своём выступлении председатель Банка России Эльвира Набиуллина привычно рассуждала о предсказуемости денежно-кредитной и бюджетной политики, о рисках разгона инфляции и о том, что ставку снижать можно, только осторожно. Министр финансов Антон Силуанов, напротив, мягко намекнул: при снижении ставки экономика сможет "дышать".

Глава Центробанка и министр экономики не сошлись во мнениях. Коллаж Царьграда
Но вся суть сошлась в одном: ЦБ вновь объясняет широкой аудитории, почему держит страну в состоянии рецессионного удушья: из-за дефицита бюджета. Однако если взглянуть на цифры, то станет понятно, куда на самом деле уходят триллионы рублей.
Триллионы на ветер: ставка и курс душат бюджет
Ключевая ставка сегодня остаётся запредельной. В среднем по 2025 году она прогнозируется на уровне в 19,2%. Для сравнения: всего пару лет назад речь шла о 7–8%.
И здесь включается простая математика. Каждый процент снижения ключевой ставки – это около 280 млрд рублей экономии для бюджета. Эти деньги уходят на обслуживание госдолга и выплату субсидий по льготным кредитным программам. А теперь внимание: если бы ставка удерживалась хотя бы на уровне 10%, а не подбиралась к 20%, то бюджет в 2025 году получил бы облегчение более чем на 2,5 трлн рублей (!).
И это не абстрактная цифра. Это больше, чем все расходы федерального бюджета на здравоохранение и образование. По сути, половина социальной сферы страны уходит на оплату последствий политики ЦБ.
Но и это ещё не предел. Минфин сегодня вынужден занимать на рынке под 14,5% годовых. Именно под такую доходность размещаются новые ОФЗ.
Что это значит? Что даже если завтра ставка начнёт снижаться, последствия уже растянуты на годы вперёд. Государство будет платить по дорогому долгу, а казне придётся всё глубже залезать в карман, в котором уже практически протёрлась дырка.
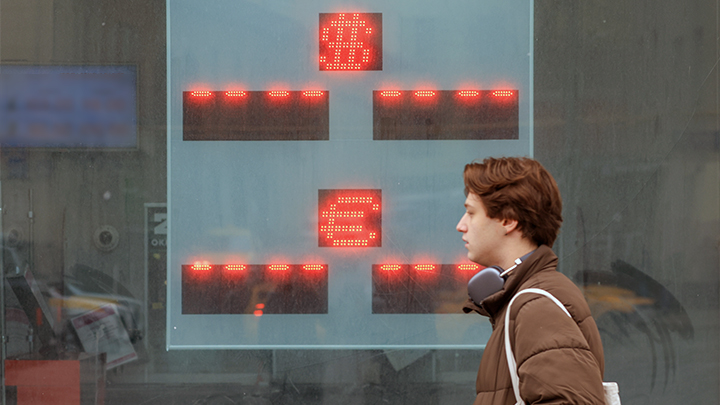
Курс рубля также влияет на инфляцию. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press
Вторая проблема – курс рубля. Минфин исходно заложил средний курс на уровне 95 рублей за доллар. Однако ЦБ решил бороться с инфляцией через укрепление национальной валюты. Формально цель достигнута: курс оказался крепче прогноза и годовая инфляция пошла вниз. Но за красивыми словами опять скрывается простая математика: каждый рубль укрепления бьёт по доходам бюджета.
Итог: казна потеряла свыше 1 трлн рублей. И это не случайность, а системная ошибка координации. ЦБ играет в укрепление рубля, Минфин продолжает планировать по завышенному курсу, а разрыв оплачивает государственная казна.
Сложим цифры. Высокая ставка – минус 2,5 трлн рублей. Курс – ещё минус 1 трлн. Итого около 3,5 трлн рублей. Именно столько бюджет потеряет в 2025 году благодаря политике Центробанка.
Правительство без рук: почему Минфин не хозяин в своей же экономике
Набиуллина говорит, что дефицит бюджета якобы является проинфляционным фактором. Но сама же создаёт условия, при которых этот дефицит только растёт. Получается замкнутый круг: ставка высока, потому что есть дефицит, а дефицит высок, потому что ставка запредельная.
Внутри этой логики даже позитивные сдвиги превращаются в проблему: рост инвестиций трактуется как "перегрев", оживление потребкредита – как "инфляционный риск", ослабление рубля – как "канал удорожания импорта". На выходе регулятор всегда находит повод держать тормоз нажатым, игнорируя, что тормоз сам разогревает систему – через стоимость денег, доходность ОФЗ и долговую нагрузку бюджета.
Правительство, по сути, загнано в угол. Расходы на экономику уже урезаны до минимума. ВПК и социальные статьи трогать нельзя по понятным причинам. Остаётся только один путь: занимать всё больше и больше. Но средняя ставка этого долга становится все дороже. А любые разговоры про "экономию" и "приоритизацию" разбиваются о проценты купона, которые заложены сейчас и будут вымывать ресурсы из казны весь оставшийся срок обращения бумаг.
Вся парадоксальность ситуации в том, что у кабинета министров практически нет инструментов влияния на денежно-кредитную политику. У ЦБ рычагов влияния уже на всю экономику в разы больше. По закону правительство не может указывать регулятору траекторию ключевой ставки, не может обязать Банк России выкупать ОФЗ на первичке для снижения доходностей, не может навязать интервенции на валютном рынке. Министерство финансов отвечает за бюджетный контур – налоги/расходы/заимствования, – но не контролирует цену денег, по которой оно же вынуждено занимать.
Попытки "обойти" регулятора административными методами – льготные программы, целевые кредиты, расширение госгарантий – лишь маскируют проблему и удорожают её. Субсидии по ставке – это та же ставка, только переложенная на бюджет. Директивы банкам – это тот же дорогой ресурс, только с риском роста просрочки и последующей докапитализацией финансовых игроков. В обоих случаях счёт приходит в казну – теми самыми триллионами, за которые ЦБ через квартал снова отчитается как о "давлении на инфляцию".

В любой ситуации Центробанк всё равно отчитается о "давлении на инфляцию". Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Именно поэтому тезис "правительство ничего не может сделать" – не фигура речи, а очевидный факт. У Банка России – монополия на цену ликвидности, нормативы, макропруденциальные надбавки, валютные механизмы и коммуникации с рынком. У правительства – лимитированный бюджетный инструмент: оно может разве что поднять налоги (убив рост), сократить государственные инвестиции (убив рост) или нарастить долг (который регулятор сделает ещё дороже). Любые "перенастройки" внутри бюджета при ключевой в 19,2% дают эффект второго порядка и всегда проигрывают по силе базовому ценовому импульсу ЦБ.
Что с того?
Дефицит, объявленный новой страшилкой, на деле – продукт самой же политики Центробанка. Регулятор из инструмента макрорегулирования превратился в конечную инстанцию, сама себе ставящую цели и саму же себя признающую правой. Даже риторика про "предсказуемость" работает как щит: всё, что не укладывается в монетаристскую догму, автоматически маркируется как "риск", а значит, подлежит подавлению через ставку – независимо от ценника для экономики. А значит, проигрывает всухую каждый из нас.
В сухом остатке мы имеем странную картину. Центробанк сам создаёт проблему, сам её обозначает угрозой и сам же обещает бороться с последствиями. Экономика в это время задыхается от высоких ставок, бюджет теряет триллионы, а правительство остаётся безоружным. Любая дискуссия о приоритетах 2026–2028 годов бессмысленна, пока цена денег определяется логикой "борьбы с рисками", которые генерирует сама ставка.
Пока в России главным источником экономических проблем остаётся не внешняя среда, а внутренняя политика собственного Центробанка.



























